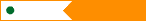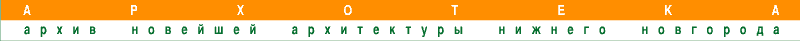|
 |
 |
 |
 |
|
Публикации - исследования о генезисе нижегородской школы, критика и авторские тексты архитекторов. Полная библиография
|
|
 |
 |
 |
 |
|
|
Автор: Григорий Ревзин
Место публикации: "Проект Россия" №4
Дата публикации: 04/04/1996
О трудностях письма
Про эти здания трудно писать. В письме — своя логика, ожидаемое поле смыслов и ассоциаций. Это — стилизация модерна. Раз стилизация, возможны такие темы: сравнение с оригиналом и сюжет об использовании модерна в постмодернизме. Развертывание этих тем предсказуемо. В первом случае — обсуждение глубины проникновения в прототип, во втором... Проект Россия логику этого сюжета уже выстраивал.
Двигаться по предсказуемому пути легко и приятно. Неприятность в том, что эти здания в эту логику не вписываются. О. Кабанова написала про них «модерн сильнее Шехтеля»2. То есть: сравниваем реплику с оригиналом, получаем нарушение приличий; «сильнее Шехтеля» — это пощечина общественному вкусу любителей Серебряного века.
«Сильнее» — это ощущение агрессивной убедительности зданий. Со стилизацией этого не может быть, стилизация существует постольку, поскольку есть прототип. А эти здания можно воспринимать и не зная о том, что был модерн. Когда Е. Пестов показывал нам работы мастерской, Барт Голдхоорн точно заметил: «Вот это здание (дом на Трудовой улице) как бы извиняется перед средой за то, что здесь стоит, а «Гарантия» и Налоговая инспекция стоят уверенно, они — хозяева места». Если архитектура убеждает так, то это — не стилизация. Убедительнее подлинного модерна может быть только его продолжение, то есть новый подлинный модерн.
Так — по логике письма, но не архитектуры. В главном фасаде «Гарантии» действительно уловлена витальная энергия модерна. Портик входа, расширяющийся кверху раструбом, выглядит каменным водопадом, растекающимся внизу криволинейными ступенями крыльца; полихромность стен и изразцовые вставки дополняют эффект ожившей поэтики Ар Нуво. Но даже в этом самом близком к модерну фасаде есть иная логика. Он симметричен, что в модерне — редкость. Основной мотив портика вообще выглядит фрагментом аркады. Иррациональность модерна соединяется с жесткой логикой аркады, но аркада при этом явлена странным фрагментом, вырезом не по границам арок, а по замковым камням.
В здании же в целом модерн сам представляет фрагмент. Что невозможно в модерне — органика на то и органика, чтобы растекаться по всему зданию. В плане эта «фрагментарность» особенно очевидна: как будто на прямоугольной решетке вырос какой-то органический нарост. Противоречие органики и геометрии ничем не сглажено, напротив, «модерн» главного фасада отрывается от жесткой геометрии бокового дырой окна, форма которого столь «случайна», что только авангардная эстетика способна легализовать ее абрис. То же ощущение «авангардности» вызывают и наплывающие друг на друга цилиндры скругленных углов и башни, а ее завершение выглядит гибридом лотосовидной капители с летающей тарелкой. Наконец, оторвавшийся карниз бокового флигеля — чисто авангардистская деталь. Это не единая форма, но монтаж разных структур.
Плановая структура здания Налоговой инспекции выстроена так же — витальный нарост на прямоугольной сетке. Здесь нет полистилизма — четыре объема здания выглядят как нормальные дома Ар Нуво. Однако это именно четыре разных дома. Угловая башня кажется гигантским устройством вроде репродуктора, из которого один за другим выталкиваются: круглая башня с вертикальными окнами-тягами, дом в стиле венского Сецессиона и разбитый мелкими окошками дом провинциального модерна. Это — улица, застроенная разными архитекторами под разные заказы.
Пестов рассказывал, что их с Харитоновым замысел был: создать что-то вроде деревянных русских палат, как дворец в Коломенском, когда каждый объем — сам по себе. Замысел нормальный для модерна — вспомним хотя бы такое его воплощение, как Государственный банк В. Покровского в Нижнем Новгороде. Но в модерне эта отдельность объемов будет преодолеваться единой витальной энергией, которая заставит перетекать форму с одного фасада на другой, связывая их вместе. А у Харитонова — Пестова все иначе — эстетика разрывов, авангардный коллаж кусков модерна.
Перед нами не стилизация модерна и не продолжение его традиций. Это вообще непонятно что. Это нечто более неорганичное, чем просто геометрия модернизма, ибо органика именно расчленена, разрыв показан. Эта предельно неорганичная форма предельно органично располагается в городе так, что кажется выросшей из места, на котором стоит. Это вообще непонятно как. И то, и другое ускользает от описания, оказывается чем-то совершенно не предсказанным в тривиальном сюжете стилизации модерна.
Вызов формы
Любой искусствовед знает, что надо делать, столкнувшись с такой ситуацией. Надо рассмотреть историю ее становления.
Первое удивительное обстоятельство, которое здесь выясняется, состоит в том, что никакой предшествующей работы с модерном у мастерской не было. Разглядывая архив, приходишь к выводу, что по вкусам — это модернистские мастера. Барт Голдхоорн написал про здание Внешторгбанка в Нижнем Новгороде, что этой вещью Харитонов и Пестов реабилитировали модернизм в России. Стильная, простая по замыслу и очень эффектная архитектура выглядит каким-то модернистским вызовом на фоне постмодернизма других (прежде всего московской) российских школ. Столь же эффектный формальный ход — Дом-пила, который сейчас достраивается. Стадион «Динамо», Кардиохирургический центр и т.д. — пожалуй, ни в одном русском городе нет такого количества реализованных модернистских работ, которые можно показывать.
Все это ничем не предсказывает неомодерна последних работ. Но всматриваясь в архив подробнее, видишь постоянное возвращение к одной теме. Внешторгбанк — это согнутая пластина, из которой, разорвав ее, вываливается каскад кубистических уступов. Пластика стадиона «Динамо» построена на остром контрасте прихотливо изгибающейся стены одной части и прямоугольного куба другой. Рядом с модернистскими коробками здания спортшколы на ул.Ванеева проектировался органоморфный осьминог бассейна — плановая структура живо напоминает решение «Гарантии».
Эти работы бросают проясняющий свет на последние здания Харитонова — Пестова. Тот же разрыв органики, которая просто означена не криволинейными плоскостями, но цитатами из модерна. Тогда перед нами не стилизация модерна, но модерн, увиденный сквозь опыт модернизма. Однако этот проясняющий свет — слишком сильный, уничтожающий все оттенки. Вроде бы неважно, в каком стиле решена тема — важна первичная интуиция формы.
Но перенос темы из чисто модернистской стилистики в тот странный модерн, который мы описывали, не может быть не важным. Эта первичная интуиция формы — конфликт органического и геометрического — один из основных конфликтов архитектуры. Он не открыт Харитоновым — Пестовым, модернистские версии этого конфликта проходят через всю архитектуру XX века. Но когда он решается в одном стиле, то перед нами не решение, а разрешение конфликта: единая формула стиля гармонизует все разрывы. Когда же перед нами монтаж разных стилистик, то они взаимно деконструируют друг друга. Модерн разорван авангардом, авангард разорван модерном — никакого целого нет. Коллаж разных стилистик — это за пределами модернистской образности, это поэтика постмодернизма. Но если понимать под постмодернизмом то, что под ним понимает Ч.Дженкс, то тогда надо сказать, что работа Харитонова и Пестова с этой эстетикой — довольно странная тема.
С одной стороны, гостиница «Октябрьская», выстроенная уже в 1987 г. (а проект вообще 1981 г.), — одно из самых первых постмодернистских зданий в России, как написал Д. Фесенко, «классика отечественного постмодернизма»3. Такой же «классикой» выглядит и их проект Дома Союзов в Кремле (1985). С другой стороны, в этой «классике постмодернизма» больше классики, чем постмодернизма. Здесь трудно найти какие-либо следы иронии, здесь все спокойно и гармонично.
Пожалуй, наиболее показательным для специфики их постмодернизма является пестовский проект летней эстрады на Волжском откосе (1991). Проект не реализован, так что воспринимаешь его прежде всего как графику. Сложность образа, цитаты из нижегородского Кремля, осмысленные достаточно иронично — как детский конструктор на древнерусские темы, и даже способ подачи, аксонометрия, сближают эту работу с архитектурой московских бумажников 80-х гг. Хотя сам Пестов значимость этого архитектурного пласта для их творчества отрицает, сходство очевидно, и, может быть, само «чудо» архитектуры Нижнего Новгорода связано с тем, что на главные роли в городе вышли архитекторы той генерации и идеологии, которая в Москве с бумаги перешла только в интерьеры и особняки.
Но в этом сходстве важнее различие. При всей близости есть противоположность стратегии. Произведения бумажников программно литературны. Рядом с проектом может возникать целое философское эссе или сценарий мультфильма — в зависимости от автора. Подобного рядом с пестовской эстрадой помыслить невозможно. Сложность образа возникает не в пространстве смысловых напластований, но в пространстве эмоционального переживания. Постмодернизм — «говорящая архитектура», и длинные тексты бумажников проявляли как раз эту особенность архитектурной идеологии a posteriori модернизма. Но постмодернизм Харитонова — Пестова — молчащий.
Кажется, что когда вместо классицистических или древнерусских реминисценций в качестве источника цитат избирается модерн, то степень этой «молчаливости» даже усиливается. Цитата ведь говорит тем больше, чем больший пласт смыслов за ней стоит. Если на фасаде вы процитируете готическую розу, то откликнется готика, неоготика и еще «Имя Розы» Умберто Эко в придачу. Если процитировать юрту, откликнутся только чукчи. Модерн — это юрта для эстета. Сама идея «нового стиля» — отсечь связи с прошлым — замыкает стиль на себе самом, цитата из него говорит только о нем.
Но и используют они модерн не столько для того, чтобы им откликался Шехтель. Их модерн не отсылает ни к какому конкретному зданию, ни к какому узнаваемому прецеденту, им важно не то, что этот мотив придуман тем-то и там-то, но то, что модерн — это работа с витальной энергией, с неоформленной массой. Цитата используется не как цитата, но как имя для называния органики.
Перед нами постмодернизм, который работает не со смысловыми напластованиями, но с формальной структурой. Это никак не назовешь типичным для постмодернизма: когда речь идет о монтаже цитат, то вопрос о форме до такой степени уходит на второй план, что его неудобно ставить. Но когда постмодернизм «молчит», то этот вопрос становится главным.
Ответ на него парадоксален. Разрывы и разломы, осколки былых форм и формул — вот принцип формообразования. Парадоксальность в том, что в своей формальной интуиции постмодернизм оказывается поразительно близким авангарду. Поэтика осколков, разломов и разрывов, накладывающихся один на другой — так уместно характеризовать, например, Мельникова. Но именно она организует монтаж цитат — сам принцип монтажа авангарден.
В архитектуре России постмодернизм и модернизм оказались противопоставлены резче и жестче, чем это диктуется их внутренней логикой. Они превратились в знаменосцев двух борющихся идеологий: модернизм — это массовое строительство, смерть архитектуры, торжество строителя, серые пространства безликих городов; постмодернизм — это возрождение архитектуры, отказ от диктата, свобода творчества, престиж профессии. В такой борьбе невозможно увидеть их внутреннее родство — хотя, скажем, в литературе или в философии граница авангарда и постмодернизма подозрительно прозрачна. Кажется, уникальность работ Харитонова — Пестова в том, что они открывают это родство в архитектуре. Постмодернизм для них оказывается прежде всего проблемой формы. Можно сказать, что это модернисты, решившие найти формулу для постмодернизма, не его смысл, но его структуру. И их архитектура предельно абстрактно, по-модернистски, выражает суть формальной интуиции постмодернизма. Разорванную органику.
Вызов места
В этом описании архитектура Харитонова — Пестова становится прежде всего формальным жестом. Но формальный жест может существовать в любом пространстве, он не привязан к месту. Включенность этой формулы в город, ощущение связи со средой остается загадкой.
Можно было бы объявить Нижний Новгород городом модерна и сказать, что Харитонов и Пестов подхватили стилистику места. В городе действительно находятся хрестоматийные памятники русского Ар Нуво — работы Шехтеля и Покровского. Но это отдельные памятники.
Модернистская ориентация Харитонова — Пестова вообще делает их контекстуализм достаточно странным явлением. «В пространстве витающие архитектурные чудеса современности будут созданы искусством плюс ум», — писал Ладовский; это витание в пространстве — одна из существеннейших черт идеологии русского модернизма, идею контекста в эту логику трудно вписать. Но как постмодернизм Пестова — Харитонова с удивлением называешь молчащим, так и в их модернизме вдруг обнаруживаешь контекстуализм.
Блестящим примером реализации этого контекстуального модернизма является упоминавшийся уже Внешторгбанк. Имелись две построенные коробки, выгнутый фасад нового объема соединил их вместе. Тем самым он стал не формальным приемом, но материализацией тех сил напряжения и отталкивания, которые возникали между уже существовавшими объемами. Вместо «в пространстве витающих чудес» появилась единственно возможная здесь форма — формула места. Это сознательная программа — так же «разыграна» композиция перестройки двух школьных зданий в проекте 1985 года. Формальный жест в этой программе приобретает не-модернистский статус. Он теряет качество непредсказуемой игры воображения архитектора, но становится проявлением места. Когда-то, как бы предрекая сталинскую классику, Осип Мандельштам написал: «сама земля требует классицизма», — вот так же, из «самой земли», рождаются модернистские жесты Харитонова — Пестова.
Но это рождение требует «модернистской» земли. Земля же Нижнего Новгорода двоится. Он делится на Нижний Новгород и Горький. Горький — это заводы и сопровождающий их комплекс Соцгорода: гигантские масштабы конструктивистской и сталинской архитектуры, уникальная по законченности облика и качеству реализация советской Утопии на левом берегу Волги. Это — модернизм. Нижний Новгород — это ткань купеческого русского города на правом берегу, среда, колоритно, хотя мрачновато, описанная Максимом Горьким. И как его тексты стилистически неопределимы, но являют собой перемешанные слои физиологического очерка с неоромантической притчей, так и ткань города безобразна и бесформенна. Судьба Нижнего Новгорода состояла в том, чтобы постепенно превратиться в Горький, и следы этой метаморфозы то здесь, то там встречаются в границах исторического города. Но это следы. Две среды накладываются друг на друга, город выглядит палимпсестом, где по одной ткани нарисована другая.
Контекстуальный модернизм Харитонова — Пестова — это освоение той архитектурной ткани, которую нес в себе Горький. Их неомодерн — другая архитектура.
В конце 80-х гг. началась реконструкция района между улицами Горького и Белинского — кусок ткани Нижнего Новгорода, который подлежал уничтожению. Она породила общественное движение с обвинением архитекторов в уничтожении города, дежурством в зданиях, подлежащих сносу, и прочими прелестями. Этот процесс происходил везде и знаменовал собой один из наиболее ярких этапов кризиса модернизма в России. Спор между архитектором и «охранником памятников» и по сей день представляет собой один из самых болезненных сюжетов современной архитектуры. Кажется, Нижний Новгород — единственное место, где из этой трагикомедии борьбы с архитекторами за архитектуру родилось что-то позитивное. Был объявлен конкурс на застройку района, и Харитонов — Пестов его выиграли. Для них это был «вызов Нижнего Новгорода» — принципиально иной, не-модернистской среды. Они увели новую архитектуру внутрь квартала, примеряясь масштабом и абрисом к ткани провинциального города XIX века.
Что представляет собой эта ткань? Нижний Новгород — это город-обманщик. Он сам выглядит палимпсестом двух структур. Вы идете по прямым улицам классицистической планировки XVIII века, и вам кажется, что перед вами сравнительно ясная, рациональная картина. Но вот вы входите внутрь квартала и оказываетесь внутри иррациональной структуры, где дом лепится к сараю, как указали ему рельеф и абрис уже не читающихся дорог и тропинок. Это резервации иррациональности внутри сетки кварталов.
При описании кажется, что, окунаясь в эту ткань, вы погружаетесь какую-то плотную, приземленную среду случайной двух-трехэтажной застройки, в провинциальный мир покосившихся деревянных домиков, так сказать, в мир «Детства» Горького. Это есть. Но есть и иное. Есть фантастика рельефа — гигантские овраги, высокие берега, невозможное сочетание бесконечной равнины с горным пейзажем. В городе то тут, то там открываются пространства за Волгой и Окой, так что, как точно заметила Л. Сапрыкина, ты попадаешь из «физиологического очерка» в пространство супрематизмов Малевича. Эта органика повседневности разрывается бесконечностью космоса.
Так что характер места — это палимпсест. Здесь накладываются друг на друга модернизм Горького и органика Нижнего, классицистическая сетка улиц и иррациональность органических отложений быта, космизм «царственно поставленного города» и муравейник покосившихся бревенчатых стен. Фантастическая геометрия полотна Пикассо кажется едва ли не диаграммой этого места, формой его бесформенности.
Русский стиль
Получая первую премию по архитектуре на фестивале «Зодчество-96», Харитонов сказал, что он рад не только оценке его зданий, но и тому, что принята его архитектурная программа. Программа же в том, чтобы найти линию русской архитектуры, которая противостояла бы экспансии западной культуры.
Очень странно это прозвучало. Потому что по своим привязанностям в архитектуре Харитонов и Пестов — западники. Но в чем-то он, может быть, и прав. Нечто серьезное в русской архитектуре Нового времени рождается тогда, когда впитанная и пережитая западная архитектурная культура вступает в диалог с тем, что есть здесь, когда не страница журнала, но бесформенная ткань покосившейся провинциальной застройки оказывается тем вызовом, на который отвечает архитектор.
« назад к списку публикаций
|
|